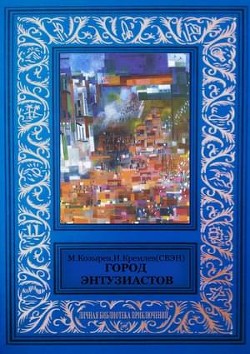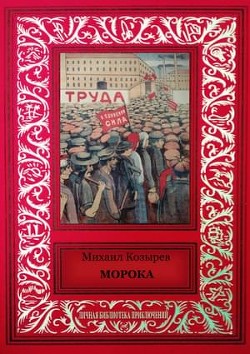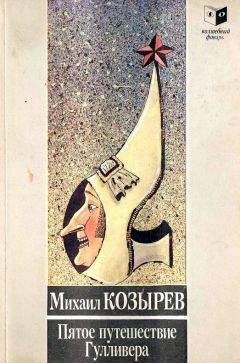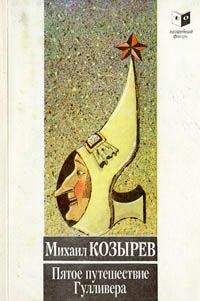А зато в эти специальные дни и часы, когда разрешено развязать языки, стихия полностью берет свое, стремясь наверстать потерянное время – и нет меры ораторскому потоку, и нет конца речам, и нет конца выступлениям…
Уже колонны собравшихся на торжество поредели, уже уехал товарищ Лукьянов, а вместе с ним и Муся, а поток красноречия, как бы подтверждая опасения архитектора и Михалка, стремился затопить Чортово Займище и новый, еще пока не построенный, город, все его будущие улицы и переулки и рабочих, собравшихся посмотреть место своего будущего жительства. Толпы и колонны редели, только знаменосцы не решались бросить свои стяги, да скованные дисциплиной отряды красноармейцев поддерживали приходящие в дезорганизацию ряды: надо ведь и то принять во внимание, что если у нас все любят говорить, то никто уж не любит слушать.
И поэтому пусть не покажется странным, что даже виновник, казалось бы, торжества не выдержал ораторского потока.
Юрий Степанович потихоньку, чтобы это не заметно было другим, сошел с возвышения, сделал два-три стратегических обхода и, оказавшись вне поля зрения товарища Метчикова, которому было передано председательское место, направился к шоссе, где его ждал автомобиль.
* * *
Вечером он был у Муси. Она сама открыла дверь и при этом сказала, как бы оправдываясь:
– Сегодня праздник – никого нет.
Но улыбнулась так таинственно и вместе с тем так лукаво и почему-то – это бросилось в глаза Юрию Степановичу – была в том самом белом платье, которое было на ней почти год тому назад при первой их встрече.
В квартире был полумрак, лампа, накрытая тёмнокрасным абажуром, создавала освещение, при котором можно было лишь слабо различать очертания предметов – зато белое платье тем более выделялось и, где бы ни была Муся, оно бросалось в глаза. И что еще более усиливало впечатление необычности – она говорила шёпотом, словно самая встреча была тайной и кто-то невидимый за стеной мог их подслушать.
Она вспоминала.
– Помнишь, когда ты пришел ко мне в первый раз. Ведь ты боялся меня, не правда ли? А теперь ты такой важный, а я рядом с тобой маленькая, маленькая…
Она изобразила, какая она маленькая, и ее платье нечаянно прикоснулось к нему.
– Ты очень много сделала для меня, – возразил Юрий – я перед тобой в долгу.
– Старые долги, – лукаво погрозила она – когда-нибудь придется расплачиваться… Помни!
– Я всегда буду твоим должником.
– Всегда? – с неожиданной страстностью повторила она – ты говоришь – всегда?
Этому «всегда» она тоже придала таинственный смысл.
– Да, всегда, – шёпотом ответил он, и, как когда-то, опять положил руку на спинку дивана, чтобы она, не прикасаясь, обнимала ее плечи. Но на этот раз Муся не отстранилась и продолжала начатый разговор, бессмысленный для других и в то же время полный для них обоих глубокого и тайного смысла.
– А ты думал тогда… давно, давно, когда маленьким мальчиком и девочкой мы сидели на скамейке в саду, такие глупые, что ты будешь моим… должником? Почему ты перестал со мной встречаться? Как я тогда плакала…
Боброву было стыдно сознаться, почему. Он чувствовал, что Муся сама отлично понимает это и только нарочно хочет увеличить список его долгов.
– Зато теперь… – ответил он, – и не окончил фразы. Рука, лежавшая на спинке дивана, словно нечаянно опустилась на ее плечи, она вздрогнула, но как-будто не заметила ничего и продолжала тот же бессмысленный разговор.
– Теперь мы большие… и не такие…
Он в этот момент привлек ее легким и незаметным движением ближе к себе. Она не сопротивлялась.
– И не такие… глупые, – докончила она фразу и рассмеялась сухим взрывчатым смехом, таким тихим, что его мог слышать только он.
– Ну что еще? Что? – проговорила она – и он видел совсем близко сделавшиеся большими и глубокими глаза.
Она была в его руках – горячая, легкая и почему-то очень большая. Он дрожал – губы шептали что-то невнятное и, может быть, смешное, потому что в ушах стоял тихий сухой взрывчатый смех.
И как раз в эту минуту продребезжал звонок – требовательный, настойчивый, властный. Почему именно в эту минуту, спросите вы. Трудно объяснить, почему. Но этот неумолимый звонок, когда вы одни во всей квартире с любимой и любящей, может быть, женщиной, когда вы наполнены только ею и знать ничего не хотите, что делается за четырьмя стенами – он всегда раздается именно в эту минуту, не являясь ли простым напоминанием о том мире, про который забыли вы, о той жизни, что бьется и неумолимо и дребезжащее требует там – за стеной.
Муся спокойно встала, прошла в прихожую, оправляя на ходу чуть-чуть помятое платье, спокойно открыла дверь. В дверь просунулась широкая борода товарища Ерофеева.
– Я кажется первым пришел… Извините, только по чрезмерной аккуратности… Товарищ Лукьянов тоже сейчас будет, я только-что от него. А вот видите – и не первым, – обрадовался он, заметив Юрия Степановича – Где ж нам старикам за молодежью…
– Юрий Степанович минут десять как здесь, – сказала Муся, – остальные, по обыкновению запаздывают.
XVIII
Придется некогда изведать и тебе
Любви безумство роковое.
Е. Баратынский.
Каждое наше общественное празднество имеет, как известно, две части – одну официальную, с речами, митингами, выступлениями – и другую неофициальную – без митинга, без выступлений, но тоже с речами, а главное – с некоторым количеством спиртных напитков. Ужин у Муси, устроенный сюрпризом для Юрий Степановича, был именно неофициальной частью торжества закладки рабочего поселка.
Вслед за Ерофеевым пришел Лукьянов и, увидев Боброву, подошел к нему той размашистой походкой, которой подходят только к близким приятелям и друзьям, и, ударив его по ладони, сказал:
– Поздравляю. А ведь ты – молодец.
– Что ж я, – в тон ему ответил Бобров, – мы тут все одинаково поработали.
– Ну, а все-таки, если бы не ты… Только смотри – напоследок не подкачай. Мне ведь за всем следить некогда – на тебя полагаюсь.
– Поможешь, так не подкачаем, – ответил Бобров, первый раз за все время подхватывая «ты», чтобы тец более укрепить дружеские отношения с главой губернии.
Пришли еще старые наши знакомые – Ратцель угловато, но уверенно, как физическое тело, преодолевающее сопротивление среды, продвинулся к хозяйке и поцеловал ее руку; Метчиков, чувствовавший в присутствии Муси некоторую неловкость и тотчас же спрятавшийся в угол; архитектор, одевшийся, вероятно, для оригинальности, в синюю косоворотку и высокие сапоги.
– Давно о вас наслышан, – сказал он Мусе, – оглядывая всю ее с ног до головы очень внимательным взглядом. Муся невольно опустила глаза:
– И я вас тоже очень хорошо знаю, хоть мы и незнакомы. Юрий Степанович не раз говорил.
– Ругал, наверное? Вздорный, отсталый старик? А вы недурненько живете, право, недурненько, – вслух выразил он свои впечатления от обстановки и расселся в одном из кресел, подняв вверх бороду и улыбаясь, похожий на большого лукавого мурлычащего кота.
Пришли еще какие-то молодые люди, пришли люди и немолодые, но нам незнакомые и не стоящие того, чтобы с ними сейчас знакомить, пришел безусый паж, некогда провожавший Мусю в ее путешествиях, – словом, пришли все те, кто так или иначе принимал участие в подготовке торжества, и их ближайшие знакомые. Последним прилетел Алафертов, франтоватый, улыбающийся, показывающий крупные белые зубы. На правах старого знакомого он говорил Мусе «ты» и старался держаться поближе к Лукьянову, вероятно, для того, чтобы тот раз навсегда запомнил его улыбающуюся физиономию.
Когда гости основательно познакомились со вкусом стоявших на столе явств и питий, при чем отдавали перед всеми другими напитками явное предпочтение отечественной горькой, вспомнили и о том, ради чего собрались. Товарищ Лукьянов произнес нечто вроде тоста.